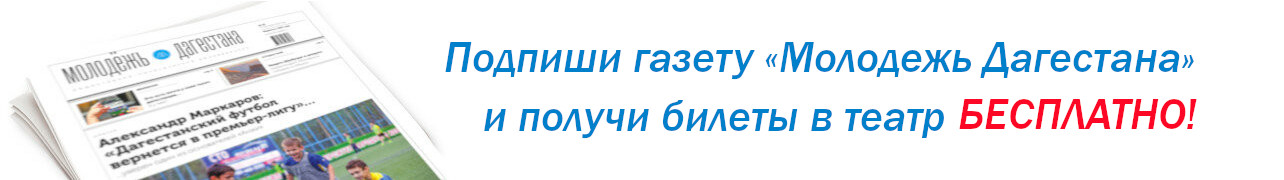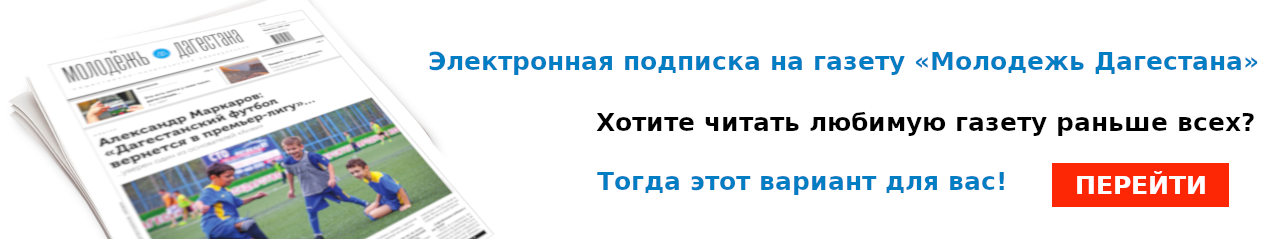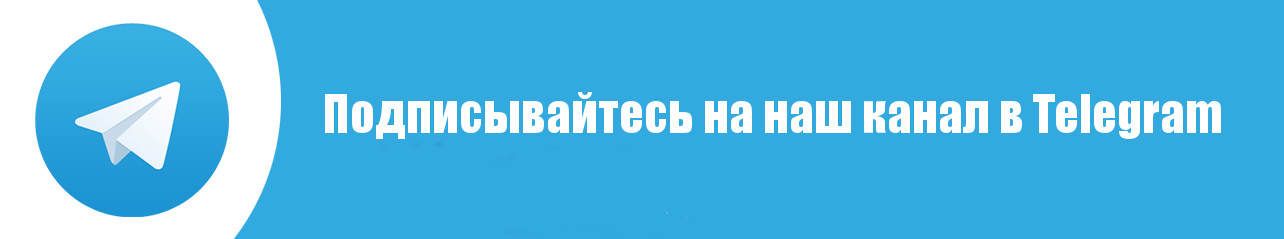Мой отец Иосиф Моисеевич Цвайгенбаум в 1939 году бежал из Польши в Советский Союз от фашистской чумы, а в 1952-м судьба привела его в Дербент. Здесь он встретил мою маму Мирвари и женился на ней. Тут родились и мы с братом – плоды слияния двух разных культур в рамках одной религии, ведь мать была горская еврейка, из сефардов, а отец — европейский, из ашкенази. Евреи-ашкенази стали селиться в Дербенте с 1860 года, в 1900-м одна из четырех синагог Дербента была ашкеназской. К тому времени, как отец приехал в Дербент, число ашкенази выросло за счет осевших тут после войны беженцев.
Иногда моему отцу задавали не очень тактичные вопросы, мол, как он уживается со своей женой, носительницей совсем иных культурных традиций. Он обычно улыбался и отвечал, что ключ к семейному счастью – это терпение, и все культурные различия между супругами стираются их любовью к детям и друг к другу. Что меня всегда восхищало в моих родителях, так это их знание языков. Мама, как и многие в Дербенте, прекрасно говорила на русском, горско-еврейском, лезгинском и азербайджанском языках, а отец в совершенстве владел русским, польским, идиш и немецким.
Отец никогда не занимал высоких постов: они вместе с моей мамой долгие годы проработали рабочими на Дербентском соковом заводе. Но в силу своей эрудиции и религиозной образованности он служил неким духовным мостом между дербентскими европейскими и горскими евреями, и в обеих общинах к нему относились с уважением. Горские евреи не раз предлагали отцу стать их раввином, но он по разным причинам отказывался. Большинство евреев-ашкенази, проживавших в Дербенте, были занесенными сюда войной беженцами, чьи родные погибли под бомбами или замучены в концлагерях. Для них было очень важно, что рядом есть такой религиозно образованный человек. Особенно это чувствовалось в Йом-Киппур, когда в маленькой комнате при синагоге отец вeл службу и плакал вместе с общиной, читая поминальную молитву «Изкор» за всех умерших и убитых. Я много раз задавался вопросом, почему евреи-ашкенази в Йом-Киппур никогда не молились вместе с горскими евреями и просили моего отца читать эту молитву в отдельной комнате. Позднее понял, как важно для них было именно в этот день молиться на идише, на котором говорили их матери и отцы и который в Дербенте никто не знал.
Жили мы возле Шуринских ворот, или Даш-капы, а соседи наши в основном были горские евреи. С ними, с Муношем, Сашей, Яшей, Хаимом и Исаем, я рос и дружил, гонял футбол, резался в карты. Иногда с соседскими девочками Хивит, Раей, Сарой и Зиной, играл в классики или прыгал через скакалку. В начальных классах я не слишком любил школу, и, хотя отец каждый вечер делал со мной домашнее задание, мысли мои были там, на улице, с друзьями. Летом мы, забывая про обед и всё остальное, целыми днями пропадали на пляже. Часами купались, ныряли и ловили друга друга в воде. Родители не слишком одобряли мою беспорядочную летнюю жизнь и отправляли меня в пионерлагерь, что я не очень любил. Хотя, должен признать, эти нелюбимые лагеря уберегли меня от многих опасных уличных приключений и развили во мне интерес к фотоделу и авиации.
Ниже нашего дома жила одна семья. Хозяина звали Раджаб, и соседские дети рассказывали друг другу страшные истории о закопанной в огороде бочке с телом его первой жены и дочке, пропавшей неизвестно куда. Сколько в этом было правды, сказать не могу, знаю только, что Раджаб сидел в тюрьме. А когда вышел, привез из аула новую жену, тетю Фатьму с сыном Шамилем. Тетя Фатьма хромала на правую ногу, говорила с сильным акцентом, носила платок и национальную одежду. Ее сын Шамиль был немного заторможенным, но безвредным, и мы его не обижали. А мой отец вечерами помогал Шамилю с алгеброй. Так что тот, хоть и сидел в одном классе по два года, но окончил школу, а потом и техникум.
Через пару лет после возвращения у Раджаба отнялись ноги, и он передвигался практически ползком, отталкиваясь от земли зажатыми в ладонях деревянными брусками. Тетя Фатьма переселила его в сарайчик, где жили куры и индюшки, а иногда там держали коз и баранов. Грязный, завшивевший, в лохмотьях, всегда полуголодный, он, тем не менее, прожил еще 16 лет. А как-то утром Шамиль, принесший отчиму поесть, обнаружил его уже окоченевшим.
После смерти мужа тетя Фатьма кричала, в основном на Шамиля и на нас, если мы играли на горке около ее забора. Она бросала в нас камни и осыпала проклятиями. Мы боялись ее как огня, а родители пугали детей: «Быстро закрой глаза, а то отдам тебя Фатьме». И не было для нас угрозы страшнее. Фатьма пережила мужа на много лет. Ее похоронили в Дербенте, на кладбище Кихляр.
В 2009 году, много лет спустя после отъезда в США, я вернулся в Дербент на пять дней. Гуляя по улице, где вырос, обнаружил, что дом тети Фатьмы снесен и на его месте незнакомые люди строят новый. А соседи рассказали мне, как сложилась жизнь у Шамиля. Несчастливо: он практически повторил судьбу своего отчима.
Когда начался массовый отъезд евреев в Израиль, у нас появились новые соседи, азербайджанцы. Через забор от нас жили Джафаровы: дядя Мирза, тетя Нияза и их пятеро сыновей — Салам, Махмуд, Даглар, Эдик и Тельман. Мы были с ними так дружны, что когда играли свадьбы Эдика и Тельмана, этот забор снесли, и свадьба раскинулась на оба двора. Забор так и не стали восстанавливать. Наши родители не видели в этом никакой надобности. У Мирзоевых долгое время не было телефона, все их родные и знакомые в любое время суток звонили нам, уверенные, что нужный человек через минуту-две подойдет к аппарату. И это было в порядке вещей. Я крепко дружил с их сыном Махмудом, он ходил со мной в художественную школу. На праздники моя мама и тетя Нияза угощали друг друга. Я был младший в доме, разносить соседям угощения являлось моей обязанностью и, пожалуй, привилегией. Очень приятно слышать, как благодарят и хвалят мамину выпечку.
Тетя Нияза тоже была прекрасной хозяйкой, я любил ее плов, пахлаву, шекяр-буру и шор-гогал не меньше, чем пасхальные крашеные яйца и куличи других наших соседей – дяди Николая и тети Тани. Они жили на два дома выше нас, на противоположной части улицы. Приносил подарки дядя Николай, тетя Таня к соседям никогда не заходила, особо ни с кем не общалась и ругалась, если мы играли под ее окнами. Поэтому многие ребята ее недолюбливали, хотя ее пасхальные угощения любили все.
Накануне Судного дня отец проводил для нас «капарот». Читал молитвы и крутил над нашими головами живую курицу или петуха – считалось, что так все наши грехи передаются птицам. Те обычно громко кричали, и я боялся, что когда-нибудь петух вырвется и заклюет меня. К счастью, такого ни разу не случилось, но страх был велик. После завершения ритуала обычно мы с моим старшим братом Едидьей несли куриц резнику в синагогу.
Мне было всего восемь лет, когда я впервые отнес их самостоятельно. От нашего дома на улице Василия Бешенцева до синагоги на Таги-Заде было 25 – 30 минут ходьбы, но птицы бились в руках и страшно хлопали крыльями. Резник принял их из моих рук, прочел молитву, быстро провел по птичьим шеям острым ножом и повесил на крючки над большой раковиной, чтоб кровь стекла. Домой я шел с уже кошерными курицами.
Одного петуха моя бабушка Болбике попросила отнести соседке Шегьери. Я ее никогда не видел, знал только, что живет она через две улицы от нас, в доме своего брата. Я долго стучал в ворота, а потом толкнул калитку и зашел во двор. В глубине его стоял крепкий хороший дом, а прямо у ворот ютился убогий домик из самана, двери у него не было, ее заменял кусок мешковины. Внутри, среди кучи старого тряпья, сидела женщина лет 60-ти в темном вылинявшем платке и при свете керосиновой лампы перебирала шерсть. У нее оказались очень красивые и добрые глаза. Я отдал ей петуха и быстро распрощался.
Всю дорогу до дома я плакал навзрыд. Моя мать, увидев меня рыдающим, перепугалась, а я, захлебываясь слезами, рассказывал ей про глиняный пол, низкий потолок и про запах заброшенности, старости и крайней нищеты, пропитавший даже стены в этом домике. У брата Шегьери было пятеро детей, но только младшая, Божи, помогала тете и заботилась о ней. Для остальных она просто не существовала. Когда Шегьери умерла, моя бабушка ее обмывала с особой нежностью и заботой, будто это могло как-то загладить ту обиду, что нанесла умершей жизнь.
В июле 1994-го, уезжая из Дербента, я вспоминал о годах, прожитых в этом городе, о соседях и с болью думал, что оставляю здесь могилу отца. Впереди было неведомое мне будущее в новой стране со всеми испытаниями, которые ждут человека в моей ситуации. И если меня что-то поддерживало первые нелегкие годы жизни в США, так это мои картины, где пело мое прекрасное детство, сиял оставленный мною город.
Светлана Анохина