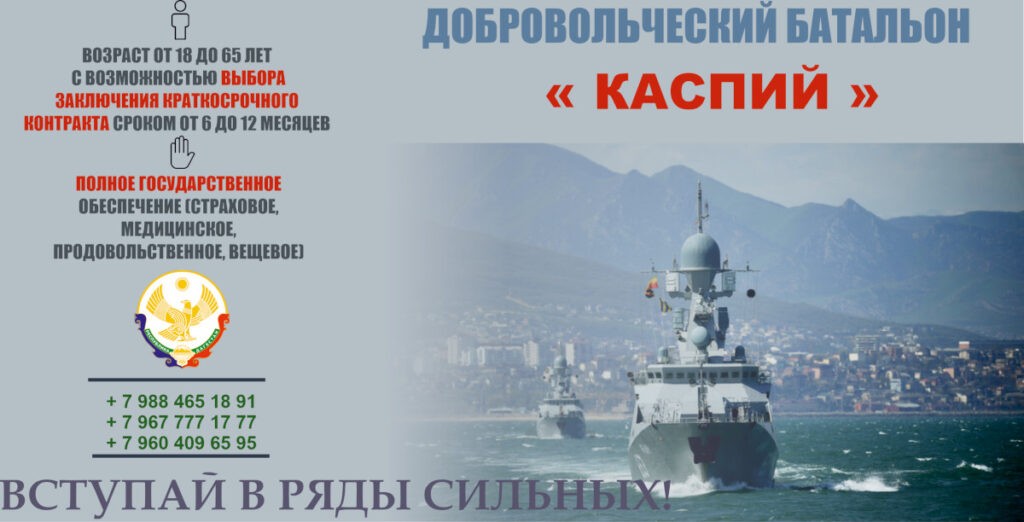Функций у Координационного центра ДГУ немало, и полное его название довольно внушительное — …центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия терроризму и профилактики экстремизма Дагестанского государственного университета.
Продолжительной у нас получилась и беседа с руководителем этой структуры Магомедом Магомедовым – экспертом, который занимается как общим анализом ситуации, так и «живьем» работает «в поле»: на счету специалиста более сотни встреч с дагестанской молодежью.
Радикализм эволюционирует
— Магомед Юсупович, первый вопрос общего характера: как вы в целом оцениваете ситуацию с профилактикой экстремизма в республике? Что уже сделано? Что еще предстоит сделать?
— Работа проделана очень объемная. Причем в ней задействованы представители самых разных кругов: государственной власти, образовательных учреждений, религиозных организаций. Цель – профилактика и минимизация последствий экстремизма и терроризма.
Сделано многое, но расслабляться нельзя. Особенно на фоне тех процессов, которые происходят в мире. Экстремизм и терроризм носят международный характер, зачастую они подпитываются из-за рубежа. Экстремизм при этом эволюционирует, приобретает различные виды, к примеру, неофашизм и т. д.
Нам нужно работать на опережение и недопущение дальнейшего распространения радикализма под любыми его формами и видами.
— Согласны ли с тем, что если есть проблемы, их нужно называть: ведь признание проблемы – первый шаг к ее решению.
— Безусловно. При этом нужно понимать, что одно дело, когда мы озвучиваем проблему в экспертном кругу, в кругу тех компетентных специалистов, которые непосредственно занимаются профилактикой этих тяжелых проблем.
А другое дело – говорить о проблеме просто так, подтверждать сам факт ее наличия, не предлагая путей решения. Это может быть неконструктивно, нецелесообразно, добавляя ощущение тревожности, нервозности у аудитории.
Так что нужно действительно нацеливаться на то, чтобы выработать конкретные механизмы решения проблемы.
«Спящие ячейки»
— С точки зрения ее активного проявления проблема экстремизма и терроризма вроде бы осталась далеко в прошлом, так? Уже много лет в Дагестане нет вооруженного радикального («лесного», как их тогда называли) подполья, участники которого совершали свои нападения на силовиков, имамов и т. д.
Тогда новостные ленты пестрили сообщениями «В Дагестане взорвано…», «В Дагестане убит…» и другими такими печальными сообщениями. Этого сейчас нет?
— Да, с точки зрения ее присутствия в нашей жизни вот в таком виде эта проблема осталась в прошлом. Но есть иная фаза, имею в виду так называемые «спящие ячейки», когда до определенного момента какие-то группировки (или отдельные лица) никак не проявляются, а потом совершают преступные действия. Яркий пример – нападение на православный храм в Кизляре в феврале 2018 года.
И я бы даже не называл нынешние способы их действий «пассивными». Распространители экстремистской идеологии активно присутствуют в виртуальном пространстве, множество негативного контента размещено как на известных хостингах, так и на площадках различных социальных сетей.
Поглощая эту информацию, молодежь, которая в значительной своей части не имеет критического мышления, оказывается в группе риска. Соответственно, нужно быть информационно «вооруженными» и давать отпор таким поползновениям. Расслабляться, повторюсь, нельзя. Мы не можем терять нашу молодежь.
Да, согласен, в новостной ленте сейчас нет «Убили… Взорвали… Проведена КТО…». При этом сейчас есть другое – новости о том, что жителя того или иного муниципалитета Дагестана признали виновным в оправдании терроризма, обнаружили признаки призывов к террористическим действиям.
То, что раньше происходило в реальной жизни, сейчас переместилось в жизнь виртуальную: призывы, оправдание терроризма, публикация запрещенных материалов. Порой фигурант дела даже не отдает себе отчета, что за это придется отвечать… А отвечать придется, знал человек или не знал о наступлении последствий. Незнание закона не освобождает от ответственности.
Добавлю, что пропагандисты радикализма не просто перешли в виртуальное пространство, они покинули территорию нашей страны и вещают «правду» из-за рубежа. И своей целевой аудиторией выбрали нашу молодежь: вербовщики адресно оттуда поднимают острые вопросы и настраивают молодежь против государства, формируя радикальные настроения среди наших молодых людей.
И, надо признать, определенная аудитория у них есть. Мы видели это на примере сентябрьских митингов против мобилизации на одной из центральных улиц столицы республики. Успеха им это не принесло, а многие тогда понесли ответственность – как административную, так и уголовную.

Фото: dagartmuseum.dag.muzkult.ru.
Фейки и последствия
— На ваш взгляд, кто из молодых людей находится в группе риска?
— Любой человек, который не руководствуется критическим мышлением. Человек, который сразу же принимает как подлинную любую информацию, не проверяя и не перепроверяя ее.
Я это сравниваю с практикой народной медицины. К примеру, нам скидывают в родственный или дружеский чат какой-то рецепт – мы ведь не бежим на рынок за ингредиентами, чтобы немедленно изготовить самим это средство и приступить к своему лечению.
Разумный человек перепроверит эту информацию: он как минимум у своих знакомых врачей спросит, поможет ли ему этот способ, эффективен ли он.
И, напротив, есть люди, которые готовы верить информации, просто ознакомившись с ней на просторах интернета. Тогда как человек должен обращать внимание на то, какую информацию он получает, откуда ее черпает и т. д. И что особенно страшно — когда человек на основании недостоверной, фейковой информации формирует свое мировоззрение.
Есть и другие критерии, но вот это – отсутствие у человека критического мышления – считаю самым главным.
— А как этому противостоять?
— Научиться и настроиться перепроверять полученную информацию. И обращаться к авторитетным экспертам.
К примеру, если это религиозная информация, у нас есть огромное количество мест и площадок, где можно ее получить или перепроверить: мечети, имамы, газеты, телевидение, сайты.
В целом настроиться избегать сомнительных источников и не опираться на них.
В зоне риска
— Кто чаще попадает, так сказать, в сети вербовщиков? Кто их цель?
— Я бы это образно сравнил с охотой волков на отбившуюся от стада овцу. То же самое в каком-то смысле происходит и здесь.
Причем я бы не сказал, что есть какой-то четкий типаж – допустим, юноши из неблагополучных семей. Нет, история показала, что и из вполне благополучных кругов молодежь уходила в экстремисты.
Те или иные факторы могут влиять на ситуацию, но я бы не утверждал это в категоричной форме: типа образованный человек гарантированно защищен от вербовки. Конечно, свою роль образование выполняет: более образованный человек труднее поддается обработке.
Другой фактор – (не)занятость. У человека много свободного времени, он не занят по работе, не заполнен и его досуг. Вполне возможно, что он будет подолгу просиживать в Сети, в том числе заходить на сомнительные площадки – и окажется так в сетях вербовщиков. Он даже не будет осознавать, что его уже вербуют.
— Где адепты радикализма ищут своих слушателей? Это какие-то адресные цели? Или просто выкладывают свои разрушительные идеи на каких-то открытых площадках в Сети?
— Они используют различные инструменты. Они умеют втираться в доверие, умеют изучать объект вербовки, умеют преподносить себя для него как «лучшего друга», который поможет ему решить проблемы, самореализоваться и так далее. И потихоньку продолжается обработка.
Сразу никому и оружие в руки не дают, и взорвать себя не учат. Это, знаете, как в том фильме: клиента готовят, чтобы он дошел до кондиции.
И параллельно работают площадки, чаще это видеохостинги, где «проповедники» организовали каналы и адресно воздействуют на нашу дагестанскую молодежь: готовят контент с целью ее введения в заблуждение, радикализации, непризнания норм российской государственности, Конституции и законов РФ. Потихоньку вдалбливается мысль о том, что жить по государственным законам не нужно, а нужно по религиозным нормам (хотя одно другому не противоречит).
И вот так потихоньку люди, которые чаще всего находятся за границей, ведут радикализацию через эти паблики и каналы.
— Какие приемы используют вербовщики? На что делают упор? Обещают деньги? Призывают к смелости, решительности — «быть мужчиной»?
— Деньги сейчас… Нет, не думаю. В 90-е годы – да, слышал о таком факторе. А теперь… «Вот деньги, пойди и взорви себя» — смысл? Уровни жизни тогда и сейчас тоже заметно различаются.
А что же тогда? У многих дагестанцев остро развито чувство справедливости. С готовностью биться до последнего за правду и справедливость. И вот на этом чувстве пытаются в том числе играть вербовщики: мол, «все плохо, тебя обманывают, тебя лишают чего-то…» В том числе, по их словам, лишают в религиозном плане. То есть задача вербовщика — внушить своим слушателям, что в России и в том числе в Дагестане не дают полноценно соблюдать религию, ущемляют верующих и т.д.
То есть идет набор вымышленных негативных тезисов в адрес государства, светских властей. И на основе этого вербовщики пытаются призвать к чувствам («ты мусульманин, ты верующий, давай вместе в меру своих сил и возможностей противостоять и противодействовать этому злу»). И так пытаются убедить молодых людей прислушиваться к их идеям.
***
(Окончание следует.)
Во второй части интервью «Молодежке» Магомед Магомедов расскажет о работе «в поле», о своих встречах с дагестанской молодежью, о том, что студенты «спят» у одних экспертов и с интересом слушают других, о том, почему он не любит выступать с трибуны, о полезности приглашения в Дагестан зарубежных проповедников, о наиболее ясных и доходчивых способах объяснить юношам опасность экстремизма и кое о чем еще.

Фото: casp-geo.ru.