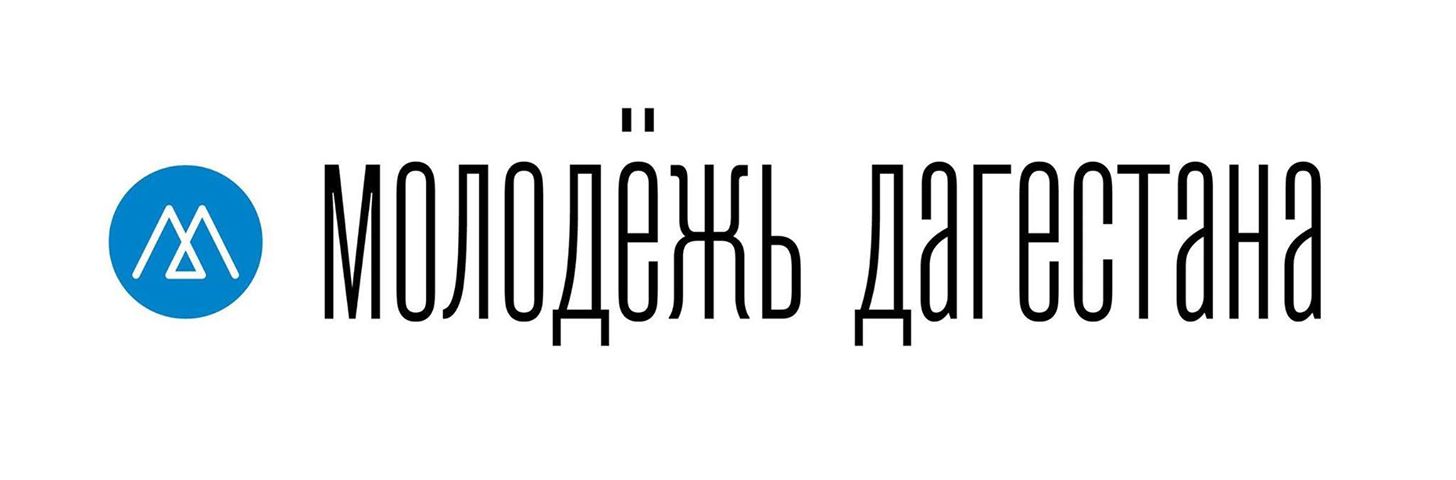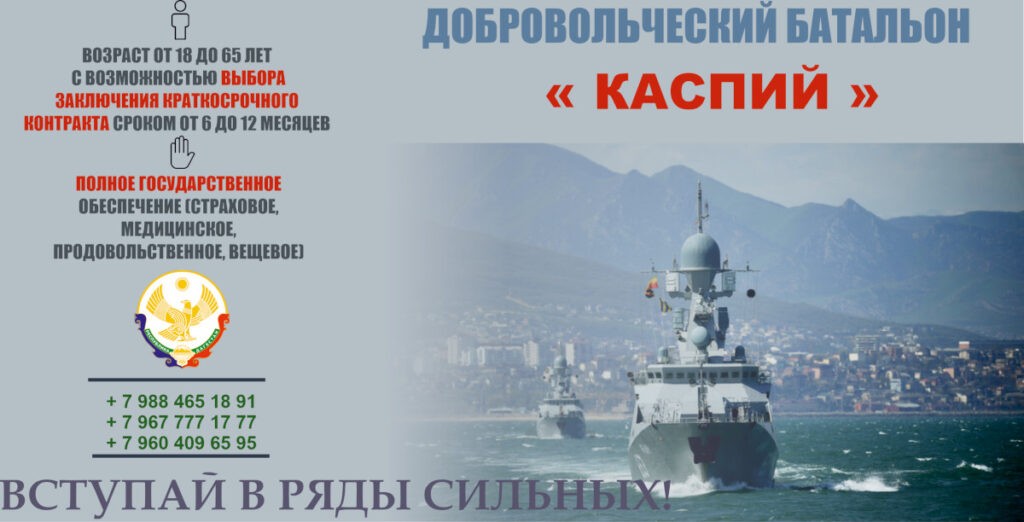В издательском доме «Лицо Кавказа» вышла в свет очередная книга профессора, доктора исторических наук Юсупа Дадаева «Дуба — храбрый наиб Шамиля».
Профессор, доктор исторических наук Юсуп Дадаев – ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук. С 1998 по 2006 год – председатель правления международного общества «Фонд Шамиля». Профессор кафедры истории Дагестана в Дагестанском государственном университете. Получил Госпремию РД за книги «По тропам Шамилевских сражений» и «Ахульго – боль моя». Опубликовал более 160 научных работ, в том числе 20 монографий, сборников, учебных пособий для вузов.
На этой неделе профессор Дадаев побывал в редакции «МД».
— Юсуп Усманович, по базовому образованию вы — экономист. Как возник интерес к исторической тематике?
— Да, в 1973 году я окончил экономический факультет Куйбышевского планового института, отказался от предложения самарцев остаться там и продолжить обучение в аспирантуре, вернулся на родину и работал в различных структурах – Госплане ДАССР, «Даггражданпроекте», комсомоле, а затем возглавил райисполком Советского района г. Махачкалы.
Но историю любил много лет. Возможно, это началось с рассказов бабушки о её прадеде – дылымце Султанбеге, который в годы Кавказской войны в ходе сражения на Ахульго закрыл своим телом от пули имама Шамиля.
Впоследствии мы с моим двоюродным братом часто уходили в пешие походы по горам Дагестана и Чечни. Да, пешком: загружали едой рюкзаки, брали с собой палатки – и в путь. Остановиться на ночь могли и на природе – в горном лесу, у буйной речки и т.д. На основе наших походов, бесед со множеством людей, обработки собранного материала была написана моя первая книга «По тропам Шамилевских сражений». А позднее – и другие книги и монографии.
— Но они были связаны с дагестанской тематикой? Книга «Дуба — храбрый наиб Шамиля» стала первым изданием с акцентом на Чечню?
— Нет, так однозначно я бы не говорил. Шамиль был имамом Дагестана и Чечни, так что чеченская тематика так или иначе упоминалась и ранее.
— Вообще, какие этапы в изучении истории имамата вы бы отметили?
— В определенный период имам Шамиль рассматривался коммунистическими властями (а под их давлением и некоторыми авторами на эту тему) как негативная личность, «английский шпион» и т.д. Позднее произошло некоторое смягчение, но в ограниченном виде: статус имама как религиозного лидера замалчивался, допускалось говорить о «народно-освободительной борьбе» против царского режима.
— По Чечне вы тоже ходили с рюкзаком за спиной?
— Много раз. И не только, ездил туда и на автомобиле. На себе ощутил гостеприимство чеченцев, которые ни разу не позволили, чтобы я остановился в отеле – забирали к себе домой.
И в работе над книгой очень помогли жители Чечни — историки, краеведы, старики, которые передавали рассказы своих дедов. Очень признателен прямому потомку наиба Дуба, его правнуку Аламаду Сайдалиновичу, его семье и родственникам, проживающим в селе Алхазурово Урус-Мартановского района, в городах Грозный, Урус-Мартан и в других местах — за помощь и поддержку, за предоставленные архивные, семейные этнографические материалы о наибе и его многочисленных потомках. Также благодарен начальнику отдела архивного управления Чеченской Республики Адаму Идрисовичу Духаеву за помощь в сборе архивных документов. Признателен я и сотрудникам Академии наук Чеченской Республики во главе с академиком Гапуровым — за помощь и консультацию при подготовке данной работы.
Что касается знатока истории, этнографии и культуры чеченского народа Асланбека Нажмудиновича Темиргираева, его семьи и родственников, то вот уже 30 лет оказывают помощь в сборе полевых материалов о Чечне, Ингушетии и другим регионам Северного Кавказа.
Только за последние 20 лет мне с Асланбеком Нажмудиновичем удалось побывать в более 300 населенных пунктах, аулах и хуторах, посетить старинные кладбища, историко-краеведческие музеи в Ножай-Юртовском, Гудермесском, Шалинском, Курчалоевском, Веденском, Итумкалинском, Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском, Шатойском, Шаройском и других районах Чеченской Республики. С его помощью удалось обнаружить в чеченских селениях более 70 рукописных материалов на арабском, аджамском, аварском, кумыкском, чеченском языках, записать из уст старожилов различные рассказы историко-этнографического характера, найти свыше 60 могил известных личностей периода Кавказской войны.
Кстати, я принимал участие в конкурсе «Беноевская весна 2016» по исторической тематике, выиграл грант, о чем было сообщено на мероприятии с участием главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
— Вы снова ездили в Чечню и в процессе подготовки данной книги?
— Да, опять побывал в различных районах. От имени наиба Дуба и происходит название селения Дуба-юрт (расположено в Шалинском районе). В 1847 году оно было сожжено царскими войсками – да, такие жестокие акции происходили как в Дагестане, так и в Чечне. Пули и штыки обрушивались в том числе на не воевавших стариков, женщин и детей.
В том конкретном случае царские вой-ска охотились как раз за наибом Дуба. Он уже был хорошо известен своим мужеством, боевыми действиями в ходе Кавказской войны. Военное руководство Российской империи к тому времени разработало новую тактику – выслеживать и нападать на местах на наибов имама Шамиля, обрубая его силы в регионах. Об этом есть соответствующее письмо военного министра командующему Кавказским фронтом.
Нападение на Дуба-юрт тщательно готовилось. В целях внезапности оно было перенесено на ночное время, во избежание цоканья лошадиных копыт их обернули тряпками с сеном. Нападавшие ворвались в селение ночью, удары обрушились налево и направо. Ушли из-под выстрелов и штыков только два человека, одним из которых и был наиб Дуба.
— Спустя более полутора столетий, снова и снова посещая те места, какими впечатлениями вы можете поделиться?
— Горная Чечня очень красива. Она похожа и не похожа на Дагестан. Наши горы – это зачастую голые скалы. В Чечне иначе: там горы покрыты лесами, обильной растительностью. Картинами своей природы чем-то схож с соседней республикой Казбековский район Дагестана, горными лесами которого я также любуюсь в ходе каждого визита в родные края.
— Дагестанцы, чеченцы… Интересно, как жители имамата разных национальностей общались между собой?
— Думаю, для кого-то это прозвучит неожиданно, но многие горцы тогда владели несколькими языками.
Давайте считать. Первое. Имамат был религиозным государственным образованием, и официальная переписка в нем велась на арабском языке.
Далее. Воины-дагестанцы владели как своим родным языком (часто это даже не диалект аварского или говор, а фактически еще один язык – как нынче в Цумадинском, Цунтинском районах), так и общались на «общевойсковом» языке – бол мацI. Кстати, в дальнейшем на основе этого бол мацI и развивался литературный аварский язык.
Весьма распространено тогда было знание кумыкской речи. Также многие владели и чеченским, и, наоборот, чеченцы знали какой-то из дагестанских языков. В итоге получаем, что знание трех-четырех, а то и пяти языков вовсе не было каким-то редким исключением. Вот такие «отсталые» были горцы-полиглоты во времена имамата и Кавказской войны.
Альберт Мехтиханов | г. Махачкала