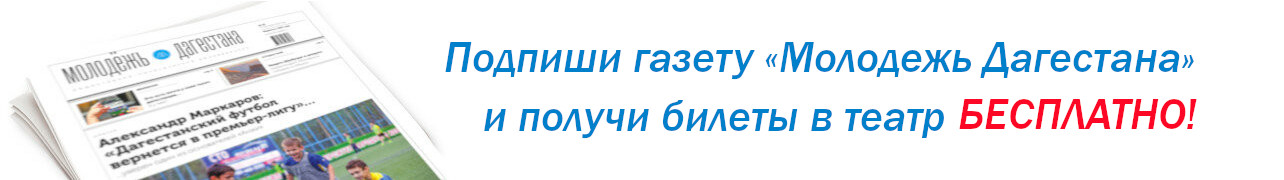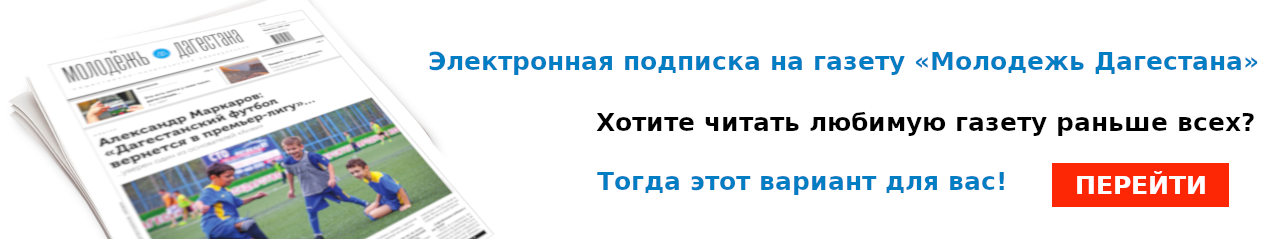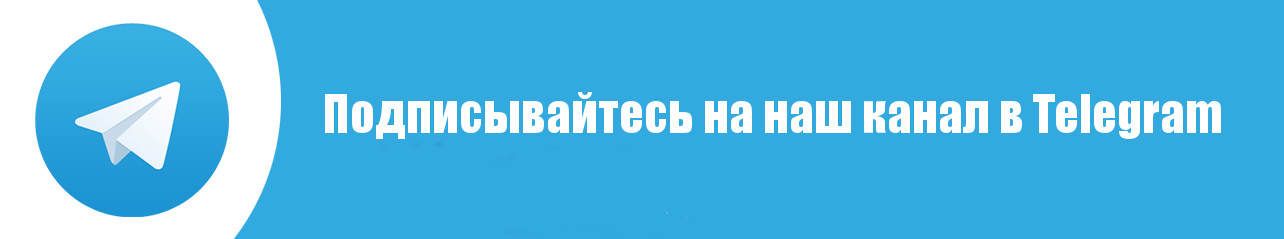В 30-е их в Дербенте было немало: вдова градоначальника Мария Петровна Козляковская (когда муж умер, она привезла из Баку огромный мраморный крест, его потом с кладбища украли); жена Петра Спасского, открывшего первый в Дербенте музей, вот имя не помню; известный зубной врач Манкевич (платить не любила, но маму не хотела отпускать и всё новые наряды заказывала); бывшая классная дама женской гимназии Елена Павловна Васильева…
До революции мама была белошвейкой в доме князей Голицыных в Туле. Папа, тульский дворянин Александр Владимирович, выучился в Московском университете на юриста и пошел на фронт в Первую мировую еще. В 22-м попал с мамой в Дербент, а через три года в здании бывшего реального училища открыли первую школу второй ступени, и папа стал ее директором.
Через три месяца после моего рождения папа умер от туберкулеза. Остались мы с мамой одни. Жили на улице Коммунаров, в доме Попова. Кто этот Попов, я не знаю, говорили, он в Баку уехал. В доме было пять комнат и галерея, выходящая во двор. Во дворе жили Пряхины, а за стенкой – моя подружка Женя Парулава. Ее отец Фаддей Николаевич был ветврачом. Внизу во дворе тоже была комната, там жила Белла Абрамова, у нее отец в 41-м погиб на фронте.
Во дворе находились помещения, там ветврач Алексей Платонович Васильев лечил полковых лошадей. Мне было лет восемь, наверное, когда Алексей Платонович на совещании в Грозном упал и получил сильное сотрясение. Его привезли уже полуживым, и вскоре он умер. Его жена Елена Павловна, та самая, что в гимназии еще работала, много лет прожила с нами бок о бок, и все думали, что она — моя тетя. Она была удивительным человеком, голос никогда не повышала и ходила неторопливо, статно. Никогда не брала подарков от учеников, говорила: «Подарки мне не несите, не оскорбляйте меня». Только если ей приносили книгу, могла взять.
Когда мне исполнилось шесть, мама пошла в сельхозтехникум кастеляншей, простыни студентам латала, ну и шила «барыням». Это помогало нам прокормиться.
Каждый выходной студентов за счет техникума водили в частный кинотеатр, там европейский еврей хозяин был (теперь в этом здании спортшкола). Я с ними ходила. Помню, в зале на балкончике сидел тапер, кино-то по большей части немое.
Тогда, в 30-х, многих забирали. Здесь у нас по улице учитель один жил, Магарамов, я с его дочерью училась, 25 лет отсидел. Троцкий был, тоже учитель, его арестовали. Георгий Михайлович Михайлов, с моим отцом работал, физику преподавал. Наверное, он тоже отсидел лет 25, потому что уже после войны я видела его в Махачкале, он был прорабом у пленных немцев, которые строили тогда здание МВД. Жил еще такой бывший богатей Кочергин, я работала в садах, которые раньше ему принадлежали. В 37-м ему тоже дали 25 лет тюрьмы. Жена его была, наверное, из «бывших», я ее знала. Сестра ее совсем простая, а дочка рыжая и некрасивая.
Даже бывшую революционерку Веру Саксой репрессировали. Моя мама была дружна с ней и ее сестрой Марией. Обе были грубоватые, и на внешность, и на характер, жесткие такие. Маруся являлась директором интерната, и у нее идеальный порядок во всем.
У нас в семье было очень много старых фотографий, но в 37-м мама их почти все уничтожила. А Елена Павловна разрезала пополам единственную фотографию, где она с мужем, – он на ней в военной форме был, мало ли что, мы всего тогда боялись. Милиция напротив располагалась, и вот мы с мамой и Еленой Павловной, как услышим, что идет «черный ворон», уже с узелками сидим и ждем, когда за нами придут. Потом жж-жж мимо, всё, ложимся спать.
В подвале под нашим домом арестованных было битком набито. Как-то трое хотели бежать, прорыли ход, думали, на улицу выйдут, а вышли в детский сад по соседству. Мы слышали шум, это их ловить начали, а они по крышам уходили. Говорили, двоих поймали, а третьего нет.
После 8-го класса я поступила в сельхозтехникум. А тут война началась. Осенью нас всех: и преподавателей, и девушек, и парней отправили рыть противотанковый ров, он шел от Сабновы к морю. Начались дожди, была жуткая грязь. Я ходила в ботах, которые уже чмок-чмок-чмок, все в воде. Но никто не ушел, все работали, а знаете, почему? Началась карточная система, не пошел – не дали хлеб. У нас директор был Гореев, очень строгий, студенты его боялись как огня, но очень справедливый. Он приказал поварам готовить горячий обед, возить нам ежедневно и давать каждому в обед по стакану сухого вина. И ни один студент у нас не заболел, хотя были обуты кое-как.
Потом всех ребят отправили на курсы геодезистов, а позже – на фронт. Ни один не вернулся. Хотя, нет, остался Володя Пориш, он был очень маленького роста, щупленький, но умница такой, все время добивался, чтобы и его взяли на фронт. В самом конце войны его взяли в авиачасти в Баку, там он и разбился. Он был, между прочим, единственным сыном.
В 42-м оставшихся девчонок мобилизовали в военкомат, на курсы снайперов. Мы ходили стрелять туда, где еврейское кладбище. Но винтовок снайперских нам не давали, стреляли из обычных. Потом всех на войну отправили, а было нас 40 с лишним человек, с первого по последний курс. Но никто в снайперы не попал, а были кто зенитчиками, кто еще кем-то. Нас осталось семь девушек из всего техникума, кто до призывного возраста недотянул: Вакуленко, Александрова (Елецкая), Тома Крайненко, Надя Тонконог, я…
И преподавателей многих забрали. Потом прислали комиссованного по болезни военного моряка Ивана Ивановича Беца, он у нас растениеводство преподавал. Откуда все девочки узнали, что он — моряк, не знаю, он в гражданском костюме ходил и ничего не рассказывал. Но влюбились в него все поголовно. А он женился на одной даме из райкома, но прожил недолго – упал с лошади и разбился.
К зиме Елена Павловна отдала нам с мамой комнату побольше, сама в меньшей поселилась – топить было нечем. В доме в каждой комнате имелись большие красивые печи, но на них дров не напастись. Мы посреди комнаты поставили железную буржуйку, вывели на крышу трубу и понемножку покупали дрова, чтобы согреться.
На углу Коммунаров и Сулеймана Стальского тогда был Торгсин (потом там разместился мебельный магазин, а позже – швейная фабрика «Динамо»). У мамы оставалось кое-какое золото, его мы и сдавали. Там были все продукты, какие твоей душе угодно, только сдавай золото. Как-то продали кольцо за целых 700 рублей и пошли мне обувь покупать. Взяли туфли, я один только день в них походила, и они порвались. Подошва, оказывается, была картонная.
Когда началась война, к нам во флигель поселили одного молодого инженера из Москвы, Кетлер фамилия, у которого родители были немцы. Он с матерью жил. Один раз утром мы проснулись, а их нет. И никто не знал, что случилось. В тот день у нас во дворе свадьба была, соседям не до того. А потом мама призналась, что видела, как их забрали. Видимо, из-за происхождения.
Подругу мою школьную Лиду Кручинину вообще ни за что на год посадили. Перед Новым годом пошли мы на танцы в кино «Родина». В кинозале началась перепалка между Бабаевым, одним из «тройки», выносившей приговоры, и ранеными из госпиталя. Один из них запустил в Бабаева стул и разбил ему переносицу (на всю жизнь у него шрам остался, кстати). А Лида в этот момент захихикала. Тут шум начался, кто-то крикнул: «Наших бьют!» Свет потух, а когда загорелся, ни одного раненого в зале не было. А девчонок потащили в милицию. Женю, она рядом с Лидой сидела, отпустили, а Лиду еще до рассвета осудили и дали год. За то, что смеялась. Она сидела в лагере неподалеку, в совхозе Карла Маркса. А когда вышла, ее стали таскать в милицию всякий раз, как в Дербенте что-то происходило. Ну, мать ее и увезла в Сталинабад.
Во время войны по крепости гуляло много ранбольных, и там я познакомилась со своим первым парнем. Его звали Михаил Брызгалов, старший лейтенант, командир «катюши», очень симпатичный. Наша соседка Лиза-хромая всегда смеялась: мол, тройка появилась. Тройка – это Миша с другом Марком и я. Они заходили за мной, мы гуляли или сидели на лавочке около моего дома. А потом он вернулся на фронт. А после три раза проездом был в Дербенте, и все три раза мы с ним не встретились. Он, видимо, уже демобилизовался, возвращался домой и специально выходил в Дербенте, чтобы меня увидеть. Знал, что в шесть утра я уезжаю в Огни, торопился, но заставал только маму. Я в это время уже шла на поезд. В общем, он вернулся домой, писал мне письма, но больше мы так и не встретились. Я до сих пор его письма храню.
Светлана Анохина