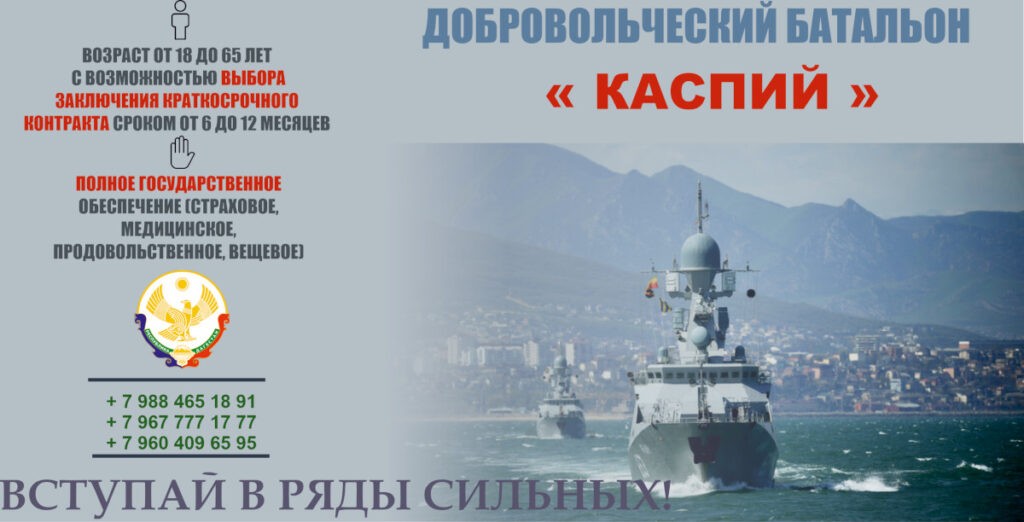У нас есть два повода поговорить об имаме Шамиле в этом номере. Во-первых, 26 июня исполнилось 228 лет со дня его рождения. Во-вторых, не так давно министр иностранных дел России Сергей Лавров передал главе Дагестана Сергею Меликову копии архивных документов, один из которых напрямую касается Шамиля. Речь идет об указе императора Александра II от 1870 года, в котором он велит объявить имаму о возведении его с потомками в дворянство. Документ скоро будет выставлен в Нацмузее Дагестана, а пока предлагаем вашему вниманию некоторые эпизоды из жизни Шамиля.
Портрет со стрелами в сердце
Первым, кто запечатлел имама, был немецкий художник Теодор Горшельт. Он оказался свидетелем переговоров Шамиля с князем Барятинским в 1859-м в Гунибе и зарисовал имама в свой альбом. Рисунок он послал в письме к родным в Мюнхен, подписав: «Вот великий человек». Позже у вдовы Горшельта его выкупил император Александр III. Ныне рисунок хранится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Художник очень точно передал усталость и печаль, которые терзали имама в те роковые дни. И дело было не только в вынужденной капитуляции. Не все знают, что, когда накануне Шамиль направлялся в Гуниб, где ему предстояло дать последнее сражение, за ним ехал обоз с казной и личными вещами: на трех лошадях везли вооружение, на шести – деньги, золото и серебро, на семнадцати – книги. Когда же имам поднялся на гору Гуниб, у него не осталось ничего, кроме оружия, которое было в его руках, и лошади, на которой он сидел. Дело в том, что обоз Шамиля ограбили жители нескольких селений, через которые проходил его путь. Впоследствии добычу грабителей конфисковал один из опальных наибов имама, изменивший ему незадолго до событий в Гунибе.

Автор: немецкий художник Теодор Горшельт
— Шамиль взглянул на своих спутников и нашел около себя только немногих наибов, — вспоминал участник событий в Гунибе Гаджи Али Чохский. — Андийского наиба Дебира, хунзахского Дебира, согратлинского Нур-Мухаммада и несколько приближенных. Прочие же изменили ему и ограбили сокровища его. Шамиль опечалился и впал в раздумье, потом продекламировал следующие стихи арабского поэта:
У меня были братья, которых я считал панцирями.
Но вот они стали моими врагами.
Я считал их за меткие стрелы.
Да! Они были таковы, но только теперь – в моем сердце.
Чуть не убил фотографа
Первая фотография была сделана через несколько дней после событий в Гунибе. Автор снимка – граф Иван Ностиц, командир драгунского полка в Чир-Юрте (ныне Кизилюртовский район. – «МД»), в расположении которого тогда пребывал имам.
— Я усадил имама на стуле, прося его сидеть неподвижно в течение десяти секунд, — вспоминал он этот момент. — Навел на него камеру с большим объективом, который в своей медной оправе блестел на солнце, как маленькое орудие. К моей немалой досаде, Шамиль сидел неспокойно, тревожно оглядывался по сторонам и, судорожно ворочаясь на стуле, то и дело брался за рукоятку кинжала. Работа не удавалась. Несколько раз я возвращался в мою лабораторию, чтобы заготовить новые стекла, а время уходило… лицо Шамиля выражало далеко не дружелюбное ко мне расположение, а его кинжал уже вытащен был до половины.
Лишь потом Ностиц понял, что имам насторожился из-за драгун, которые с ружьями в руках окружили сад, где велась съемка. Дело в том, что полковой адъютант испугался оставлять своего командира наедине со вчерашним врагом и на всякий случай велел драгунам организовать засаду.
«Многие из них провели по десятку и более лет на Кавказе, но никогда не видели Шамиля, — объясняет граф. — А теперь случай представился такой удобный, что они мало-помалу начали выползать из своей засады, но ружья держали наготове. Вот эта та картина, не представлявшая ничего успокоительного, и смущала Шамиля. Я мгновенно удалил их и извинился перед имамом, который, поняв, что было какое-то недоразумение, сел смирно и дал с себя снять портрет».
Когда спустя годы они встретились близ Киева, откуда Шамиль направлялся в Мекку, имам признался, что в тот момент он был уверен, что его хотят лишить жизни.
— Бог спас тогда тебя, — приводит Ностиц слова Шамиля, обращенные к нему. — Рука моя была еще сильна, и я готов был вонзить кинжал в твою грудь. Убили бы меня, но и ты в живых не остался бы.

Поздняя любовь
Дочь одного из богатейших людей на Северном Кавказе, выросшая в роскоши и получившая светское образование, она должна была выйти за высокопоставленного офицера, а стала… пленницей, а затем женой мятежного имама, пережив с ним все его триумфы и трагедии, следуя за ним везде, даже на чужбину.
Анна Улуханова родилась в 1824 или 1825 году в семье почетного жителя Моздока, купца 1-й гильдии армянского происхождения Ивана Улуханова. В 1840 году вместе с родней она оказалась в заложниках у шамилевского наиба Ахбердилава.
Когда о пленных стало известно имаму Шамилю, он приказал объявить выкуп за всех, кроме Анны. Ей он предложил принять ислам и стать его женой. Неизвестно, сразу или спустя время, но девушка приняла предложение. Ее не остановило ни то, что у имама уже были две жены, ни разница в возрасте – Шамиль был старше нее на 25 лет. Так Анна стала Шуайнат.
– Вот уже минуло 15 лет, как я сделалась его женой, но я проливаю слезы, когда он бывает в походе и не присылает за мной, если в чем-нибудь провинюсь, – признавалась она в беседе с пленными грузинскими княгинями в 1854 году. – Он всегда обращается со мной ласково, как с ребенком, и делает мне выговор так снисходительно, так кротко, что мне делается стыдно от его чрезмерной доброты.
О сильных чувствах Шамиля к своей жене мы узнаем из истории, которую приводит в своих записках его пристав Аполлон Руновский. Спустя некоторое время после событий в Гунибе имам с семейством прибыл в Калугу. Шуайнат же, задержавшись у родственников в Моздоке, запаздывала. Руновский знал, что она занимает первое место «в иерархии привязанностей Шамиля». Желая унять тоску имама, он взялся доставить в Калугу её фотопортрет, сделанный в Моздоке. Это пробудило в Шамиле сильную ревность.
– Несколько месяцев тому назад Шамиль получил с Кавказа портрет Шуаннат, которым, весьма естественно, думали сделать ему удовольствие, – вспоминал этот эпизод Руновский. – Первое впечатление при взгляде на черты любимой женщины выразилось у него одинаковым образом, как выразилось бы у каждого из нас, но вслед за тем он сказал: «Лучше бы я увидел ее голову, снятую с плеч!»
Имам шутит
На портретах и фотографиях Шамиль и его окружение имеют крайне серьезный вид. Трудно представить их смеющимися или рассказывающими шутки. Но и им, как и всякому живому человеку, было свойственно чувство юмора. Над чем смеялся и о чем шутил имам, пишет всё тот же Аполлон Руновский:
«…Магомет-Амин (наместник Шамиля в Черкесии. – «МД») рассказывал о некоторых особенностях абадзехского языка. В пример он приводил, между прочим, нумерации абадзехов: один – зза, два – тхи, три – шши, четыре – пккхи, а пять так просто – тьпфу. От всего сердца и всею силою своих здоровых легких смеялись горцы абадзехскому счету. И в самом деле: чтобы назвать цифру пять, надобно непременно плюнуть! […] Вслед за тем Магомет-Шеффи (сын Шамиля. – «МД») и Хаджио (казначей Шамиля. – «МД») сделали из абадзехского «пять» кумыкский термин, получивший в наших разговорах право гражданства и часто подающий повод к смеху. Пять по-кумыкски – беш, бештур. Применяя это слово в отношении того предмета, который не нравился им до той степени, что «хоть плюнуть», горцы совсем перестали в подобных случаях плевать, а вместо того употребляли абадзехское пять: «абадзех-бештур!» или для краткости просто «абадзех». Таким образом, у них выходило: «хатын (женщина – пер. с кум.) абадзех-бештур!», «абадзех-ат» (ат – лошадь в пер. с кум.) и т. д. Этот способ сдерживать в границах свои ощущения понравился и Шамилю, который, хотя и изредка, но тоже употребляет его. «Абадзех-гиши!» (гиши – человек в пер. с кум.) – говорит он, улыбаясь и показывая на какого-нибудь пьяницу».
Шамиль Ибрагимов