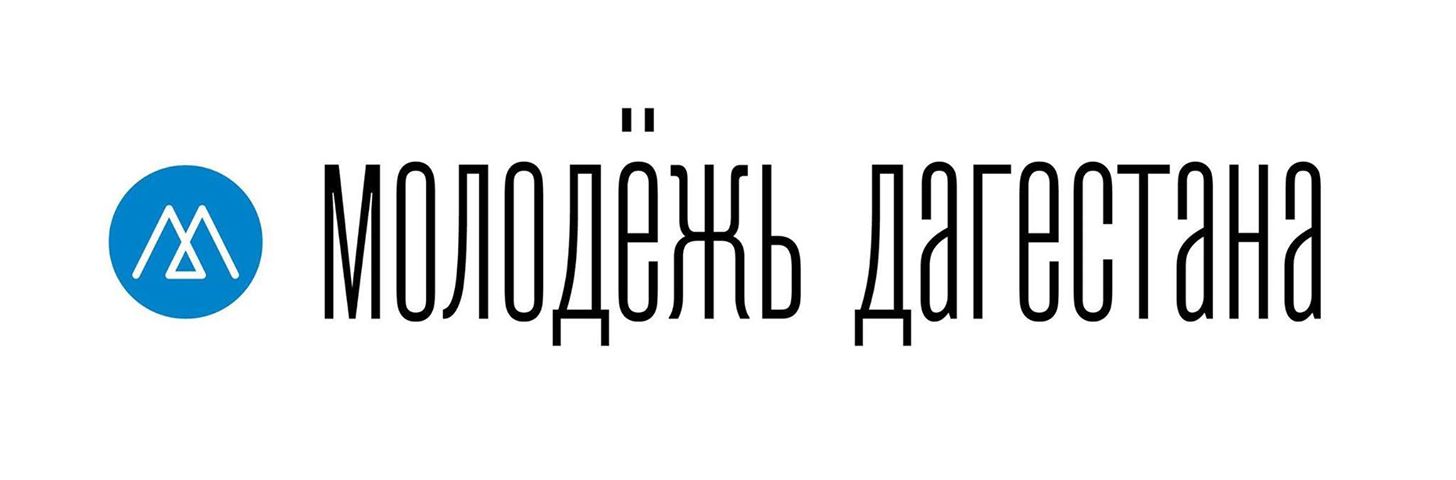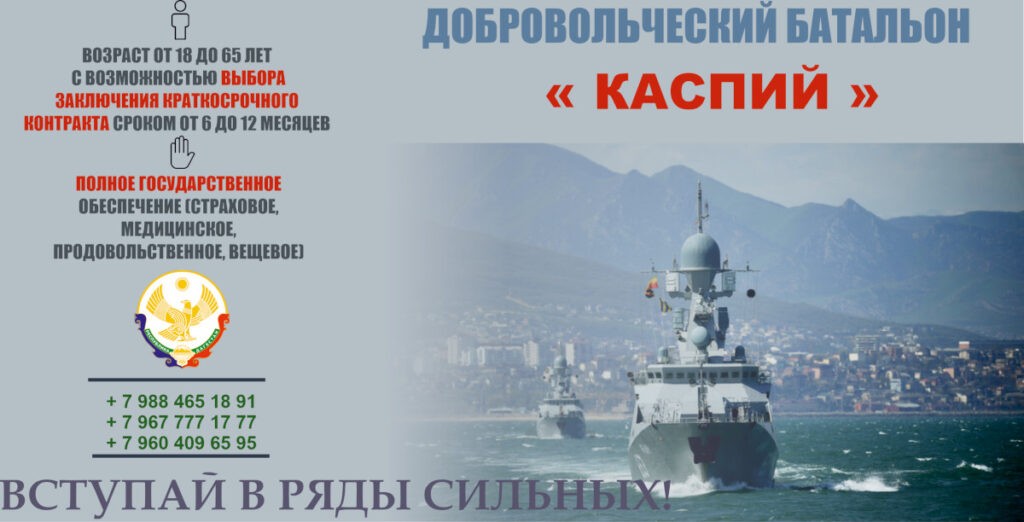"Кавказский экспресс" в архивах Государственного литературного музея Грузии им. Г. Леонидзе
(Продолжение. Начало в прошлом номере.)
Мы въехали в Тбилиси, когда на наших часах было без десяти четыре, перевели стрелки на час вперёд. Необходимо было успеть в музей до закрытия, разгрузить картины и постараться выстроить экспозицию будущей выставки. Завтра, 17 апреля, в 18.00 открытие. Очень нервный момент, когда ты зависишь от массы случайных вещей.
Договорённость с руководством была сделана без моего участия Марией Экслер. Но как нас встретит директор, будет ли он на месте, успеем ли мы сделать развеску прямо сегодня?
Добавил жару водитель, оставшийся недовольным оплатой за перевозку.
Поручив ожидающей нас Нино сопроводить уставших до нашего Дома переводов, я с Закарьёй остался в музее.
Директора Лаши Бакрадзе на месте не оказалось, но к нам вышла заведующая выставочным залом Манана, и всё упорядочилось. Оказалось, что для нашей выставки выделен зал на втором этаже, а тот, на который мы рассчитывали, был занят под фотовыставку самого музея. Манана любезно согласилась задержаться на работе, чтобы мы успели развесить основную часть картин. Нам предоставили лазерный нивелир, который ускорил процесс. Можете представить, как сладостны художнику минуты, когда плоды его труда, тяжело покачиваясь на шпагате, выравниваются по горизонтали. Стены дают почувствовать торжество замысла.
Четыре зала, выстроенные анфиладой, показались нам слишком большими, и первое решение было ограничиться двумя. Но… «хорошая мысля приходит опосля», и после часовых передвижений вдоль и поперёк пространства мы решили не мелочиться и забрали все помещения. В первом зале будет живопись Магомеда Дибирова, во втором – Патимат Гусейновой, в третьем и четвёртом разместим арт-объекты Закарьи Закарьяева и мою графику.
Вскоре в зал вошёл седоватый мужчина в очках, на взгляд, лет пятидесяти, в джинсах и твидовом пиджаке. Ничего в его внешности не намекало на административную должность, скорее, его можно назвать научным работником. Мы, кивнув головами, продолжали вколачивать гвозди в стены. Но через минуту-другую за его спиной появилась улыбающаяся Манана, и по её взгляду стало понятно, что перед нами директор Лаша Бакрадзе. Он поприветствовал нас на хорошем русском и выразил желание принять у себя в любое удобное для нас время. Мы поблагодарили и пообещали зайти к нему, как только закончим.
Я и забыл, что музей по своей сути, по замыслу является научным заведением, а не доходным местом, и его должен возглавлять настоящий учёный, а не человек с близкородственными связями и правильной национальностью.
В феврале сотрудница Нана Кобаладзе провела нас по музею и сделала небольшой экскурс в историю. Безусловно, это было беглое знакомство, и теперь стоит заглянуть в его сокровищницы.
Апрельские вечера в Тбилиси ещё прохладны, и в открытое окно музея с парка шёл приятный сосновый дух. Пока Закарья собирал инструменты, я решил заглянуть к директору и познакомиться поближе.
Батоно Лаша сидел в кабинете. Свет экрана компьютера высвечивал его утомлённое работой лицо. Я постучал о косяк, поскольку дверь была раскрыта настежь. Напротив моего места – выход на балкон. Он приподнял голову на стук и улыбнулся.
— Одну минутку, мне надо ответить на письмо.
Беседа была короткой и полезной. Я вручил свои верительные грамоты, несколько номеров газет «Горцы» и «Молодёжь Дагестана» и рассказал о начале работы филиала Дома переводов. Выставка «Кавказский экспресс», которую поддержал музей, является первым публичным мероприятием Дома в Тбилиси.
Лаша Бакрадзе подарил мне книги, выпущенные музеем за последние несколько лет. Какой чудный день 16 апреля! У меня в руках книга, посвящённая Борису Леонидовичу Пастернаку, вышедшая, что очень важно, на русском языке в издательстве «Диоген». В неё вошли архивные документы писателя, хранящиеся в фондах музея. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Пастернака, и эту дату отмечают не только в России. Свою вводную статью поэт и переводчик Иза Орджоникидзе назвала «Нас мало». Несколько строк из письма, обращенного к читателю, думаю, это важно:
«Я не стану утверждать, что в Грузии в каждой семье имеется «Избранное» или «Доктор Живаго» Пастернака, но не знаю ни одного грамотного грузина, который не слышал о «грузинской части» жизни Бориса Пастернака или о его дружеских отношениях с выдающимися представителями грузинской культуры: художниками, актёрами, музыкантами и, наконец, грузинскими писателями – членами общества «Голубые роги» Тицианом Табидзе и Паоло Иашвили, Валерианом Гаприндашвили и Николо Мицишвили…
Каждый грамотный грузин знает о «грузинской» части жизни Пастернака. Особый период начинается с 1937 года… Самоубийство Паоло Иашвили, арест Тициана, допросы, пытки, расстрел… Страхом, последующим за 37 годом, годами, запятнанными всеобщим недоверием и жестокостью, датированы не только стихи и множество блестящих переводов Бориса Леонидовича, но и письма – неоспариваемые шедевры, посланные супруге уже расстрелянного Тициана Табидзе, Нино Макашвили… Те же годы указаны на бланках денежных переводов… И так продолжается в течение долгого времени – без шума, последовательно, до самой смерти поэта… Вся Грузия знает о бесконечной опеке Пастернака над безутешной семьёй Тициана Табидзе после его гибели.
Пусть простит мне читатель, приверженный к массовой культуре, грузинской и иностранной, но, быть может, в тяжелейшее время нашей жизни знание легенды о преданности погибшему другу нужнее ему (и у нас, и в России), чем прекрасные строчки «Марбурга», заученные наизусть…»
Листаю книгу, и глаз останавливается на письме от 6.11.33 г. (№20896).
«Дорогие друзья мои, Нина Александровна и Тициан! Я не знаю, как называется возвышенность, по которой уходят поезда из Тифлиса. Её видно было из нашего окна в Орианте, я часто смотрел на неё, следя за медленно плывущим дымом, то скрывавшимся за каменными выступами, то снова появлявшимся. Те же манипуляции, что и этот дым, стал производить я, когда Вы и Корнеевы1 остались за поворотом, и Николай2 с Гольцевым3 могли, если захотели бы, вычислить по часам из окна гостиницы, как медленно было моё прощанье с чудесным городом, сколько явлений его из-за скал я счёл последними и уже окончательными, после чего он вновь показывался, как бы оглядываясь уже из невозможности и сверх ожиданья, и как трудно было мне за всем этим удержаться от слёз. Счастливые, счастливые! Как охотно я поменялся бы с Вами судьбой, если бы только не любил Вас.
Несловоохотливым пассажиром ехал я среди соседей по вагону, слишком большое богатство увозил я с собой в душе, но не с кем было им делиться: всё это были люди, не знающие Вас, не бывшие той ночью у Леонидзе, не защищавшие Ладо от нападок Шаншиашвили, не искавшие Казбека в сумеречно туманной панораме с террасы Э. А. Бедиа 4, – несчастные невежды без цели и призванья в жизни, раз их не было за теми столами, я [вив…еся ] на свет божий за час до отхода поезда специально для заполненья билетной брони.
Вы легко представите себе, дорогие мои, сколько раз я имел время и случай вновь и вновь пережить все перечувствованное и виденное. Время для этого было тем больше, что опоздали мы в Москву более чем на сутки – на 30 часов. Сперва под Баку нас на 9 часов задержала снеговая буря, потом мы целую ночь простояли за Махач-калой, остановленные происшедшим на следующем перегоне крушеньем. А потом с нами стали обращаться, как с выпавшими из графика по заслугам: семафоры, как подкошенные, опускались перед нами на полустанках и в полях. И, конечно, ясно было мне, что из расписания выпал я, а не поезд, потому что всеми мыслями я был не в дороге, а в днях, среди Вас проведённых.
И так как я наговорил уже Вам столько глупостей, что их количество переходит в качество, и как бы превращается в право продолжать и дальше в таком же духе, то сознаюсь Вам, что по приезде домой меня ждало возобновленье всего пережитого с Зиной с самого начала, во всём драматизме, но на этот раз только вдвоём, под мирным, никем не оспариваемым кровом, так что временами брало сомненье, уместна ли эта глупая буря нового ознакомленья, раз она так давно признана и стала очевидностью.
А вот на совсем уже другую тему, из области чистой глупости, образцы «идиотизма как такового».
На основании каких-то телеграмм в английской и скандинавской печати отец в письме радуется моей поездке и… поздравляет меня (!). Прочёл он, видите ли, что возглавлял (!!) я экспедицию писателей, потом в том же поезде проехавшую в Крым (!!!), и папе понравилась моя речь (!!!!), произнесённая в Тифлисе (!!!!!).
Дорогие мои, стоит ли жить после этого и работать, когда каждый из нас, не подавая к тому никакого повода, оказывается вдруг жертвой невидимой спекуляции, нереальной не только в отношении нас, но и с точки зренья её собственных видов, и даже не разбирающей, где сесть и снести своё яйцо кукушки! Наудачу и совершенно случайно (так, очевидно засевают поле с аэропланов) избираются объекты для ажиотажа, и человек, который желал бы честно прожить в горящих границах своей напряжённой ограниченности, попадает в биржевую сказку. В моём случае это тем точнее, что ведь и всё действительно сделанное мною наполовину отягощено фальшивою легендой: не разлагается ли половина моей наличности на такие «речи в Тифлисе» и «крымские поездки»?
Ах, Тициан, как хотел бы я знать, но во всей действительности, кто я и что я, чтобы прийти на судебный процесс со своей судьбой во всеоружии вещественных доказательств! У Зины есть ответ на этот вопрос, она со всей заинтересованностью большого друга полагает, что я бездельник, и ставит под сомнение нашу дальнейшую совместимость, если, наконец, я снова не возьмусь за работу.
Но не совсем права она, потому что черта привязанности, которую я за собой знаю, как единственная определённость, так велика во мне, что заменяет мне дела и кажется профессией.
Привязанность к местам и некоторым часам дня, к деревьям, к людям, к историям душ, в пересказе которых я не нуждаюсь, так фигурно-геральдичны самые о них умолчанья, так готов я бываю пересказать их за них самих, – привязываться как-то не по-мужски и по-дурацки, вот единственное, что я без всякой радости для кого бы то ни было знаю и умею» <…>
Ваш Б. П.
Работаете ли Вы, Тициан? До полученья материала от Вас, Паоло и Л. не прикоснусь к имеющимся подстрочникам других – скучно.
(На обратной стороне письма приписка карандашом):
Всем, всем без исключенья приветы ото всего сердца, Вы сами знаете, кому какие. Б.»
Документы, письма… не оторвёшься. Как будто всё описанное происходит в настоящем времени. Вот на 71-й стр.:
«Дорогой Борис Леонидович! Сегодня мне передали, что английское радио сообщило о присуждении Вам Нобелевской премии. Я тут же послал Вам приветственную телеграмму. Вы, если не ошибаюсь, пятый русский, удостоенный премии: до Вас были Мечников, Павлов, Семёнов и Бунин – так что, Вы в неплохой, как видите, компании.
Однако ситуация с Вашей книгой сейчас такова, что с Вашей стороны было бы просто вызовом принять эту премию. Я знаю, что мои советы для Вас Nihil 5, и вообще Вы никогда не прощали мне того, что я на 10 лет моложе Вас, но всё же беру на себя смелость сказать Вам, что игнорировать мнение партии, даже если Вы считаете его неправильным, в международных условиях настоящего момента равносильно удару по стране, в которой Вы живёте. Прошу Вас верить в моё пусть не очень точное, но хотя бы «точноватое» политическое чутьё.
Обнимаю вас дружески, любящий Илья Сельвинский».
Ещё в архиве есть анонимная поэма – «От Иуды» (№9986). На штемпеле: «Боковка. Москов. обл. 23.1.59». Письмо без марок, поэтому ещё один штемпель на конверте: «Доплатить 1 руб. моспочтамп 1 эксп.» Машинописный экземпляр на двух клочках плохой бумаги.

Борису Пастернаку от Иуды
Тебя за рубежом венчают неспроста,
Перед тобой и я склоняю выю:
Я предал одного Христа,
А ты –
Ты предал всю Россию.
Пусть о тебе твердят: мол, совестью нечист,
Мол, дышит ложью каждая страница,
Но назовёт тебя своим любой фашист,
И знаю я: тобой любой шпион гордится.
Моей любви и преданности верь:
Горжусь и я твоей судьбою –
Ты в клевете мастак, и ясно мне теперь,
Что я щенок перед тобою!
Хорошую ты сделку заключил,
Меня затмить сумел ты ухитриться,
Серебряников получил я – тридцать,
А ты – гораздо больше получил.
Отечество продать, Борис, ты счёл за Благо.
Пускай шумят, что ты лакей, холуй, –
Всё это бред. За «Доктора Живаго»
Прими ты от Иуды поцелуй.
Измены изучай усерднее науку,
Всё чистое и светлое – души!
Не унывай, Борис!
От всей души
Я жму твою предательскую руку!
Твой Иуда.
Да! Вечер выдался. Прочитать такое и спокойно уснуть? Бедный Пастернак.
Несколько редакций строк из его стихотворения «Нобелевская премия».
Было:
Не ходить с петлёй у горла
В час, когда так смерть близка,
Чтобы слёзы мне утёрла
Правая моя рука.
Стало:
А с такой петлёй у горла
Я б хотел ещё пока,
Чтобы слёзы мне утёрла
Правая моя рука.
Надо заметить, что в Москве в эти самые дни убили Бориса Немцова. Я не провожу никаких параллелей. Просто одно имя – разные судьбы, а Россия всё та же.
***
Удивительная возможность провести ночь с Пастернаком. И возвратившись в Дом переводов на Ладо Асатиани, я после общего отбоя открыл «Гамлета». Первоначальный вариант стихотворения звучал так:
Вот я весь. Я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске
То, что будет на моём веку.
Это шум вдали идущих действий.
Я играю в них во всех пяти.
Я один. Всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти.
Окончательная редакция:
Гул затих. Я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске,
Что случилось на моём веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идёт другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе,
Жизнь прожить – не поле перейти.
Вспомнился разговор о «Гамлете» поздним вечером с Мариной Табукашвили в её офисе. Пастернаковский «Гамлет» – её любимая тема.
Первая строчка «Гул затих…» И дальше – выход на сцену, суд, казнь… Куда этот выход, не знает даже Господь Бог. Поэт, незримо стоящий за Гамлетом, чувствует, что дьявол близко и прячется где-то в деталях. Что за странный ритуал перед важным выходом – «Прислонясь к дверному косяку…» Всё неслучайно. Гамлет получает немыслимую ранее силу, уверенность. Энергия от простого дверного косяка? Явно – от другого, тёмного и разрушительного, идущего из-под земли. Но чем заплачено?
XX век. Не Гамлет, нет! От шекспировского героя взято только имя. На сцене самонадеянный Пастернак, вздумавший играть собственную драму. Горькая чаша никак не минует его.
В 1952 году у Пастернака случился первый инфаркт. Как написал он 17 января 1953 года Нине Табидзе, его успокаивало, что «конец не застанет меня врасплох, в разгаре работ, за чем-нибудь недоделанным. То немногое, что можно было сделать среди препятствий, которые ставило время, сделано (перевод Шекспира, «Фауста», Бараташвили)».
Сноски
1 Б. И. Корнеев – журналист, сотрудник Издательства «Заря Востока».
2 Николай – Н. С. Тихонов (1896 — 1979) – писатель, поэт, переводчик.
3 Виктор Гольцев (1901 — 1955) – литератор, критик. Автор работ о грузинской литературе.
4 Э. А. Бедия – советский партийный лидер. Расстрелян в 1937 г.
5 Nihil – ничто (латин.).
Марат Гаджиев